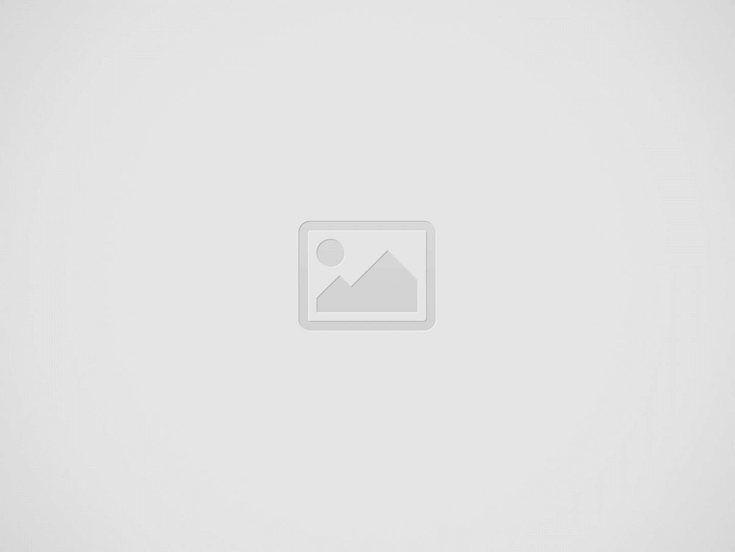

— Российские чиновники говорят о растущем числе операций по пересадке органов. Одновременно в суды поступают иски от родственников погибших в ДТП и ставших посмертными донорами: семьи жалуются на изъятие органов без уведомления. Что происходит в российской трансплантологии?
— Принципиально значимых изменений в нашей отрасли в течение последних лет десяти мы, к сожалению, не наблюдаем. Есть определенные успехи. Например, мы начали активнее внедрять те виды трансплантации, которые раньше в стране практически не выполнялись: это пересадки сердца и печени (в единичных центрах они даже стали рутинными), трансплантация легких, пересадка поджелудочной железы… 10–15 лет назад это были редкие, единичные случаи. Сейчас такие операции, можно сказать, поставлены на поток, но, к сожалению, не по всей стране, а лишь в ведущих, наиболее крупных трансплантационных клиниках.
— Что это за клиники? И что произошло десять лет назад, что эти операции стали рутинными?
— Ничего глобального не произошло, просто мы уже, наверное, подошли к той черте, когда понимаем, что без соответствия общемировым тенденциям, без того, чтобы шагать в ногу с мировой медициной, мы оказываемся на периферии. Поэтому начали активнее эти методы осваивать и пытаться внедрять в повседневную клиническую практику. Клиник, которые работают со всеми видами трансплантаций органов, в нашей стране не так много, можно выделить около пяти лидирующих в этом отношении, не больше. Это в первую очередь Национальный центр трансплантологии имени Шумакова и институт Склифосовского, который является крупнейшей городской трансплантационной клиникой в столице. Все остальные по масштабам пока уступают — краевая больница имени Очаповского в Краснодаре, МОНИКИ имени Владимирского в Подмосковье, областные центры трансплантации в Ростове, Новосибирске… Но, к сожалению, в целом по стране темпы развития отрасли оставляют желать лучшего. Ведущие клиники пока преимущественно в Москве сосредоточены.
Пересадок сердца больше в институте Шумакова, больше трансплантаций почки до последнего времени делали мы. В Склифе выполняют больше пересадок печени от трупных доноров, а от родственных — в центре Шумакова. Мы ежегодно выполняем почти 200 трансплантаций почки и 100 пересадок печени, около 10 трансплантаций сердца и легких. В остальных клиниках пересаживают на порядок меньше. Но эти круглые цифры не совсем корректно отражают текущее состояние дел, потому что из года в год количество органных доноров в масштабах страны остается на весьма низком уровне.
— Сколько нуждающихся в пересадке органов в России?
— Очень много. Мы выполняем 200 трансплантаций почки в год — это достойная цифра для одной клиники. Тем не менее в листе ожидания у нас постоянно около 500 человек, и это только москвичи — жители региона, где по сравнению с остальными эта ситуация нет так остра.
В масштабах страны картина более печальна. Мы, как структура московского здравоохранения, к сожалению, не можем оказывать помощь региональным пациентам. Этим занимаются в федеральных клиниках — центре Шумакова, РНЦХ, НИИ урологии. Все эти учреждения также расположены в столице. Поэтому у тех, кто смог до Москвы добраться, есть какой-то шанс.
— Как попасть в Москву на пересадку?
— Пока что через систему федеральных квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Их распределяет Министерство здравоохранения. В этом году система квот сохраняется. Но если финансирование будет проводиться через фонд обязательного медицинского страхования, то не думаю, что ситуация может измениться кардинально. В конце концов, неважно, откуда именно мы получаем финансирование, в любом случае имеющиеся донорские органы не пропадают. Все пригодные, которые могут спасти жизнь, будут пересажены. В любом регионе. Здесь вопрос не в финансировании, а в имеющемся количестве — мы в силах выполнить не 200, но и 400, и 600 трансплантаций почки в год. Это количество соответствует нашему уровню, и хирургическому, и вообще медицинскому, но у нас пока что нет такого количества органов.
— Сколько примерно люди ждут подходящий орган?
— В среднем в нашей клинике, если говорить о почке, то полтора-два года. Есть ряд пациентов, которым приходится ждать дольше, потому что у них с подбором органа есть определенные сложности медицинского характера.
— Как ищется орган для пациента?
— Очень важно заметить: не орган «ищется», а к уже имеющемуся, изъятому донорскому органу, с определенным набором медицинских характеристик, подбирается наиболее подходящий реципиент из всего списка нуждающихся — из так называемого листа ожидания. Подбор реципиента кроме множества медицинских показателей производится в том числе и с учетом длительности ожидания. Когда в реанимационном отделении, к сожалению, не удается спасти больного с инсультом или тяжелой травмой головы и, если ни он сам, ни его родственники активно не высказались против возможного изъятия органов, после констатации смерти они могут быть использованы для трансплантации. Специалистами донорской службы органы извлекаются и на короткое время консервируются. Для уже имеющегося органа подбираются реципиенты из листа ожидания, кому этот орган наилучшим образом подходит. А уже из этого сокращенного списка — тот, кто наиболее долго ожидает операции.
— Что должно совпасть, помимо, например, группы крови?
— Есть около 20 факторов, которые необходимо учесть, чтобы донорская почка у пациента заработала, работала хорошо и проработала долго. Важнейшие — группа крови, возраст, исходное состояние органа, иммунологическая совместимость.
И таких нюансов в трансплантации, поверьте, много.
— Сколько орган проработает, если все параметры сошлись?
— В идеале мы стремимся к тому, чтобы пациент счастливо дожил до глубокой старости и умер в силу возраста с нормально работающим трансплантатом. К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, но есть показатели выживаемости, которые можно назвать рекордными. Максимальное время, которое проработала пересаженная почка, — 42 года. Пересаженное сердце — 36 лет. Не вызывает сомнений, что при правильном подборе органа и реципиента, безупречной хирургии и грамотном ведении больного после трансплантации донорский орган способен работать в течение нескольких десятилетий.
— Пациентам с пересаженным органом необходимо принимать иммуносупрессоры, чтобы орган не отторгался. Как они влияют на состояние здоровья?
— Арсенал иммуносупрессивных препаратов постоянно расширяется. Фактически проблема отторжения — то, с чем наши предшественники и учителя сталкивались постоянно, — сейчас не настолько актуальна, как раньше. То есть в принципе обмануть организм и заставить его «поверить», что донорский орган — это его собственный, в большинстве случаев возможно. С другой стороны, надо признать, что даже самые современные иммуносупрессивные препараты обладают рядом побочных эффектов, которые здоровья реципиенту все-таки не добавляют. Но эти нежелательные явления хорошо изучены, мы знаем, как их предотвращать, как не допустить их развития и как с ними бороться, если уж они проявились.
Например, нередко приходится сталкиваться с развитием сахарного диабета. Или же на фоне иммуносупрессии может повышаться артериальное давление. Увеличивается риск развития инфекционных заболеваний, причем не только обычных типа пневмонии и гриппа, но и специфических, связанных именно с угнетением иммунитета. Например, цитомегаловирус и герпес. Для обычного человека они не опасны. Но в условиях угнетения иммунитета могут представлять угрозу здоровью и даже жизни больного.
— Некоторым пациентам нельзя пересаживать орган. В чем причина и что это за пациенты?
— Таких пациентов с каждым годом становится все меньше. Мы сейчас очень либерально относимся, например, к фактору возраста. Еще относительно недавно пациенты старше 60 лет практически не рассматривались как кандидаты на пересадку. Сегодня же мы успешно оперируем больных намного старше 70 лет. Если пациент может перенести наркоз и серьезное хирургическое вмешательство, если потенциально после трансплантации он проживет, как минимум пять лет, мы стараемся ему помочь. То же касается и пациентов с аутоиммунной патологией — когда организм сам «пожирает» свои органы. Раньше таких больных почти не оперировали — ведь как иммунитет повредил собственные почки, так же в кратчайшие сроки он расправлялся и с пересаженной. А сейчас у нас есть возможности успешно предотвращать подобные ситуации. Например, пациенту с сахарным диабетом одновременно проводится пересадка почки и поджелудочной железы. Почечная недостаточность ликвидируется, а диабет фактически излечивается и в дальнейшем не повреждает пересаженную почку.
— Где в России учитываются органы, доступные для пересадки?
— Отдельно в каждом центре органного донорства. Пока полноценного регистра, как и так называемого банка органов, нет. Ведь приемлемые для пересадки донорские органы имеют очень короткий «период жизни». Невозможно, например, заморозить орган, чтобы потом достать нужный с полки, разморозить и пересадить.
Трансплантат почки, например, сохраняется пригодным для пересадки в течение 24 часов, это максимум. При условии специальной консервации, конечно. Для других органов этот срок гораздо меньше: сердце до 9–10 часов, печень до 16 часов, поджелудочная железа до 15 часов, легкие до 7–9 часов.
Поэтому подбор реципиента, его вызов и подготовка проводится параллельно с работой донорской службы. И донорская, и трансплантационная бригады работают в круглосуточном режиме, в праздники и выходные. Это повсеместная, общемировая практика.
Организует весь процесс координационный донорский центр. В его функции входит оповещение бригад, предварительное обсуждение подходящих реципиентов с центрами, где они ожидают трансплантации. Все нюансы стараются учесть еще на начальном этапе, когда только приступают к изъятию.
— Таким образом, вся система распределения органов ограничена регионом или соседними, так как иначе есть сложности с успешной доставкой органа.
— Почку можно успеть доставить в другие регионы, в ряде случаев — и печень, и сердце. Но зачем? В каждом регионе должен быть налажен процесс органного донорства, и в каждом регионе должны быть специалисты и клиники, в которых могут пересадить органы проживающим там же пациентам. Не нужно на постоянной основе организовывать доставку органов в масштабах всей нашей необъятной страны — такая необходимость может возникать лишь в исключительных случаях. Хотя у нас, например, есть опыт пересадки почек, изъятых даже в Красноярске. У коллег в листе ожидания не оказалось подходящего реципиента (была редкая группа крови), они связались с нами, мы просчитали логистику доставки и уложились в приемлемый срок, все прошло успешно. Но это редкий, единичный случай. По-хорошему распределение органов должно оставаться в пределах региона, с доступностью потенциального реципиента в течение 1–2 часов. Опять-таки повторюсь, это повсеместная, общемировая практика.
— Каковы шансы, что пересаженный орган приживется?
— Выживаемость органов сейчас весьма высока для любого органа и в среднем превышает 95-98% — при трансплантации почки, при трансплантации печени, сердца и легких — выше 90%.
— При пересадках почки и печени сколько приходится на трупное донорство, а сколько на родственное?
— До 20% может приходиться на родственное донорство в разных клиниках. В остальных случаях пациенты ожидают трансплантации от посмертного донора. Родственная трансплантация почки или части печени, в первую очередь — от дефицита органов. При достаточном уровне развития органного донорства родственная трансплантация уйдет в область редких, сложных в плане медицинского подбора случаев. И активное развитие программ родственного донорства происходит из-за нерешенных проблем и сложностей в организации донорства посмертного.
— Если сравнивать с другими странами, то на каком мы уровне по посмертному донорству?
— К сожалению, мы находимся в числе отстающих. В мире мы где-то в третьем десятке.
— В других странах система строится именно на трупном донорстве?
— Во многом это зависит от длительности ожидания трансплантации органа от посмертного донора. Например, у наших коллег в Белоруссии фактически нет периода ожидания пересадки, потому что по уровню развития органного донорства они обеспечивают необходимое количество трансплантаций для всех граждан страны. То есть если появляется пациент, который нуждается в трансплантации почки, сердца, печени, то операция проводится ему в течение месяца, максимум двух. Потому что уровень организации системы органного донорства, уровень администрирования позволил выстроить систему, при которой все возможные пациенты, которых врачи не смогли спасти, будут рассматриваться в качестве органных доноров.
— Чем же тогда отличается ситуация в России? У нас та же презумпция согласия.
— Наше слабое место в системе административных решений, во взаимодействии донорской службы с теми стационарами, где стараются спасти жизнь пациентам, но не всегда это удается. Например, при несовместимой с жизнью травме головы или тяжелом повреждении головного мозга в результате инсульта, нарушения кровообращения. Когда все подобные случаи будут охвачены вниманием донорской службы, поверьте, наш уровень органного донорства существенно вырастет. Опять же Москва тому яркий пример. Средний уровень органного донорства в Москве также оставляет желать много лучшего, но по крайней мере на этом локальном примере видно, что при должном подходе, в первую очередь за счет административных, организационных усилий, можно достигнуть уровня в пять раз выше, чем в целом по стране.
Сейчас общий показатель донорства не превышает 4 органных донора на 1 млн населения. А в столице — выше 17. Приемлемый уровень, к которому нужно стремиться, это 28–32 донора на 1 млн человек.
И он вполне достижим, когда весь пул потенциальных доноров будет охвачен вниманием донорской службы.
Но Москва сейчас не может обеспечить всех нуждающихся в масштабах всей страны, для этого необходимо развитие донорских служб в регионах. И мы видим, что есть области, в которых это развитие происходит весьма успешно: Новосибирск, Краснодар, Ростов, Екатеринбург, Тюмень.
— Крупные федеральные центры?
— В принципе это общемировая тенденция. Такую службу, как органное донорство и трансплантация органов, нецелесообразно развивать на уровне центральных районных больниц. Она требует потока. В небольшой больнице даже при достижении самого серьезного охвата будет выполняться 5–10 пересадок в год. И специалисты там никогда не накопят необходимый опыт и уровень для того, чтобы все эти операции заканчивались у них хорошо, не было проблем и осложнений. Пациентов лучше прикреплять к федеральным, крупным региональным центрам. Но тем не менее с учетом масштабов нашей страны, в каждом регионе, в крупных городах с серьезным уровнем медицины, хирургии в том числе, это возможно. Но пока не во всех субъектах это есть.
— Показатели, которые вы назвали, 28–32 донора на 1 млн человек, возможны сейчас?
— Возможны и сейчас. Это те погибшие люди, которым вопреки титаническим усилиям врачей (которые на самом деле пытаются спасти пациентов, но врачи не боги) не удалось помочь.
— В России действует презумпция согласия на изъятие органов — если пациент и его родственники не сообщили, что не хотят изъятия, по закону органы имеют право забрать. У врачей при этом нет обязанности спрашивать мнения родственников. Насколько, на ваш взгляд, это этично?
— В мире параллельно развивались и развиваются две системы. Первая, это когда по умолчанию считается, что, если не было заявлено об отказе, то в случае смерти пациента, если его органы могут быть изъяты, они будут изъяты для трансплантации. Это так называемая презумпция согласия, которая практикуется в нашей стране. Презумпция несогласия, или презумпция испрошенного согласия, напротив, утверждает, что если волеизъявления человека не известно, то по умолчанию считается, что человек был категорически против. И в этом случае нужно либо выяснять мнение у пациента, пока это еще возможно, либо вводить какие-то документы, которые при жизни и полном здравии будут регистрировать его согласие. И вот здесь мы еще можем говорить о регистрах… Либо нужно испрашивать согласие родственников, если пациент из-за тяжести своего состояния уже сказать это не может. На самом деле и та и другая модели имеют плюсы и минусы. И есть этические споры между их сторонниками.
— Где какие модели действуют?
— В Северной Америке, Канаде, США действует испрошенное согласие, в Европе — 50 на 50: например, Испания — это испрошенное согласие, Великобритания — презумпция согласия. В некоторых странах эти модели плавно перетекают одна в другую: сначала работали по одной модели, потом переориентировались на другую. Мне кажется, что если выбирать модель испрошенного согласия, когда мы требуем от людей зафиксировать свое мнение в регистре, поставить отметку в правах, то в этом случае успех приходит только к тем странам, у которых высока степень общественного доверия к медицине в целом. Мы в России не можем, к сожалению, похвастаться такой ситуацией. У нас, как правило, бытуют мнения, что «врачи убили, врачи халатно отнеслись, врачам денег не заплатил — поэтому никто к тебе не подойдет». Это регулярно звучит в СМИ, со страниц газет, с экрана телевизора, в интернете полно подобных отзывов, причем независимо от того, говорим ли мы о трансплантации или о лечении насморка. И это все говорит о степени общественного доверия к врачам и к медицине как к системе в целом. Разумеется, когда люди все это слышат, даже если у них нет четко сформированного отрицательного мнения, то под воздействием всего этого информационного шума, если их поставить перед выбором за или против, человек на всякий случай скажет «нет», не утруждаясь детально разобраться в вопросе. Имеющаяся законодательная база в нашей стране абсолютно адекватна общественному состоянию. Но при этом у любого человека есть абсолютное право и возможность заранее зафиксировать свое несогласие на посмертное изъятие органов.
— Как его зафиксировать?
— Практически это не применяется, но по закону, госпитализируясь в стационар по любому поводу, человек может сказать лечащему врачу, что в случае летального исхода, внезапного, случайного, непредсказуемого или ожидаемого он категорически отказывается быть донором органов. С этим пациентом донорская служба не будет работать по умолчанию, по отказу самого пациента. То же самое касается родственников: когда пациента привезли в больницу уже в тяжелом агональном состоянии, или что-то случилось, и он попадает в реанимационное отделение и не может изъявить свою волю, родственникам достаточно сказать лечащему врачу, что они категорически против: «Если вам не удастся его спасти, просим, требуем не рассматривать его на возможность посмертного донорства». Все. К этому пациенту не будет вызвана служба органного донорства, а если даже они уже приехали и состояние не оставляет сомнений в том, что летальный исход неизбежен, бригада просто развернется и уедет. Поверьте мне, для этого не нужно заполнять никаких бумаг, не нужны никакие подписи, не нужны петиции, просто нужно сказать лечащему врачу, заведующему отделением реанимации. Этого будет вполне достаточно.
— Когда врачи начинают понимать, что перед ними потенциальный донор?
— Исходя из прогнозов. Если есть какой-то весомый процент вероятности, что нам не удастся спасти пациента в его текущем состоянии. Опытный реаниматолог может оценить ситуацию и сказать, что, наверное, через день-два весьма ожидаем летальный исход, и вызвать для предварительной оценки службу органного донорства, чтобы они его взяли на карандаш. Если они приедут или спросят по телефону, как дела у этого пациента, и им скажут, что он пошел на поправку, есть положительная динамика, пациент снимается с наблюдения. Никто не будет к нему приезжать, сидеть, потирать руки и думать о том, что сейчас вырежут… Этого не будет. Здесь врачи работают. Кто-то больше, кто-то меньше, но все они очень высокоморальные люди.
Но у врача, который лечит пациента и не может его, к сожалению, вылечить, есть два варианта — либо сообщить в центр органного донорства, либо не сообщать. Он понимает, что в одном случае кто-то из родственников потом может подать иск в прокуратуру, а в другом он будет спать спокойно.
И в этом особенность белорусской модели: у них несообщение о таком случае, о потенциальном доноре приравнивается к неоказанию медицинской помощи. Тем пациентам, которых этот врач не видит, которые находятся в центрах ожидания трансплантации и которым органы этого умершего (или умирающего в данный момент) человека могут помочь. У нас умер — врача за это не накажут (если не было серьезных ошибок в лечении), а многие коллеги еще и одобрят: «Молодец, а то, не дай Бог, через полгода придет иск и тебя затаскают по прокуратурам и следственным комитетам». Я знаю изнутри, как работает система, я абсолютно уверен, что при изъятии органов все делается этично и в рамках закона. Ни трансплантологи, ни специалисты службы донорства никак не участвуют в констатации смерти. Но вот в случае иска от родственников — и реаниматолога, и заведующего реанимацией попрессуют, на них будут давить, их ожидает много бессонных ночей, раздумий о семье, весь этот моральный груз. И потом человек скажет: «Да зачем оно мне все надо? Да лучше бы я не сообщил никому, я бы спал спокойно и с чистой совестью. А что касается других людей — тех, которым нужны органы,— я их не видел, я их не знаю, я всем на свете помочь не могу».
В США, как и в Белоруссии, если реаниматолог не поставит в известность донорский центр о потенциальном доноре с минимальными шансами или о пациенте в процессе констатации смерти, или она уже констатирована — ему грозят штрафные санкции (вплоть до лишения лицензии), порицание коллег, административные взыскания и прочее. У нас ни кнута, ни пряника за это не предусмотрено. Не все врачи, к сожалению, а может быть, и к счастью, могут работать вот за идею. Одно дело приложить все усилия для спасения пациента, который у тебя в руках, за которого ты отвечаешь, а другое дело — где-то там кто-то в центре трансплантации, а это даже другая больница…
— То есть нужна пропаганда не только среди населения, но и среди врачей?
— Среди врачей тоже. Причем не просто среди врачей, а со школьной, со студенческой скамьи. Кафедры трансплантологии потихоньку начинают появляться и в регионах. В Москве сейчас действуют две. И для любого студента-медика нужно сделать так, чтобы трансплантация и органное донорство — это была нормальная цивилизованная часть работы, тем более для врача, который работает на стыке жизни и смерти, в реанимации, в неотложной медицине. Иметь понимание должны все.
— Сейчас в правительстве все еще находится законопроект о трансплантации органов, который готовился несколько лет. В нем фактически предусмотрено испрошенное согласие. Что сейчас происходит с документом? И какие в нем есть позитивные или отрицательные, на ваш взгляд, моменты?
— Единственную позитивную вещь, которую я в нем вижу, то, что там предложен тот самый механизм, который есть и сейчас, но на практике никто не знает, как его реализовать. Это когда человек озаботился проблемой, как бы сделать так, чтобы в случае смерти, его органы ни в коем случае не изъяли и не использовали для трансплантации. Сейчас гипотетически человек может пойти в любое медучреждение, сказать, что он против, даже от руки написать, но официальной формы нет. На бумажку поставить печать учреждения, ее сложить, положить в паспорт и с этой бумажкой ходить. А по законопроекту вводится возможность электронной регистрации своего волеизъявления. Четко прописан путь, как можно попасть в единый на всю страну реестр и выразить свое волеизъявление. В законе предполагается такой реестр создать, и это, возможно, единственное, чего не хватает нам в текущей ситуации с точки зрения законодательства. Ведь, если мы просто, не меняя закон, создадим реестр людей, которые категорически против использования своих органов в случае смерти, это решит максимум проблем: умирает пациент, его проверяют по этой базе. Если не находят — автоматически считается, что он согласен. Либо видят, что он против. И это снимает этический момент, о котором мы говорим.
С другой стороны, учитывая особенности нашего менталитета, я сомневаюсь, что больше 5% взрослого населения страны зарегистрируется в этом реестре. Кстати, как против, так и за. Всегда есть суеверие: «Я живой и здоровый, пойду регистрировать посмертное несогласие, а вдруг высшие силы что-то подвинут, чтобы меня подтолкнуть к этому. Пусть лучше все идет как идет».
В законе помимо создания регистров тех, что за и против, предлагается давать родственникам после смерти человека, который не определился, два часа для того, чтобы они вспомнили о том, что органы могут изъять, позвонить или приехать в отделение и сказать, что они против. Но и по этому закону врачи не обязаны мнение родственников активно выяснять.
— Два часа — это большой срок?
— Разумеется. На самом деле, в такие моменты на счету каждая минута — далеко не у всех доноров удается поддержать после смерти кровообращение, вентиляцию легких, то есть газообмен, в состоянии достаточном, чтобы не произошло критического повреждения органов. Поэтому я выступаю за то, чтобы максимально упростить этот пункт: пусть будет только два регистра — для тех, кто не против, и для тех, кто не может «ни есть, ни спать», потому что его несогласие нигде не зарегистрировано. Пожалуйста, вот вам онлайн-механизм волеизъявления, отказывайтесь — никаких проблем.
Когда я пришел в трансплантацию, с представителями средств массовой информации мы говорили о том, что наше общество не готово к принятию испрошенного согласия на посмертное донорство. С тех пор прошло 20 лет, ситуация серьезно поменялась, но мы продолжаем говорить, что общество не готово. Так когда же наконец-то наше общество будет готово? И что мы за это время сделали для того, чтобы оно было готово? Но мы, врачи, и конкретно трансплантологи, как были закрытым сообществом, так им и остаемся. Пока мы сами не сделаем шаг навстречу, пока мы не откроемся, пока не покажем людям, силовым структурам, которые надзирают за соблюдением законности в этой стране, сложно будет убедить людей, что у нас нет злоупотреблений, нет коррупции, рынка органов, черных трансплантологов. Хотя поверьте — их на самом деле нет.
— Как это можно доказать?
— Нам надо открыться, сделать первый шаг навстречу обществу в этом плане. Во-первых, в трансплантации случайных людей не бывает: туда попадают и выживают там только врачи-энтузиасты. Те, которые пошли заниматься врачебной деятельностью, врачебным искусством, с высокоморальной позицией — и в результате своего развития дошли до трансплантации, которая является сейчас передовой областью медицины. Я лично знаю большинство из них — они амбициозны, они берегут «честь мундира», и закрыть им всем рот, если бы они увидели какие-то серьезные злоупотребления в этой отрасли, невозможно.
— Помимо этических аспектов, что еще говорит о невозможности черной трансплантации?
— Второе: количество людей, вовлеченных в процесс донорства, распределения органов, трансплантации, очень велико.
В какой-то полуподпольной организации выполнить пересадку невозможно, потому что для этого необходима развитая донорская служба, иммунологическая лаборатория, чтобы определить совместимость.
Операционная, где должны работать хирурги и медсестры высочайшей квалификации, анестезиологи. Трансплантация — это результат работы большого количества людей, каждый из которых должен быть профессионалом, достигшим вершин своей профессии. И они не работают в одно время в одном месте: не могут только хирурги сговориться что-то там кому-то пришить. Донорская служба занимается одним, иммунологическая лаборатория — другим.
После того как сделали пересадку, длительное время нужна высококлассная реанимация. И это не может быть просто какой-то один реаниматолог, даже гениальный. В зависимости от ситуации после пересадки реанимационная помощь нужна 6, 8, 12 часов, а бывает, что нужна неделя, 10 дней… И все это время пациенту в громадном объеме проводится интенсивная терапия, коррекция всех органов и систем. Врачи должны меняться, реанимационные сестры должны меняться, дежурный реаниматолог должен меняться. Нередко требуется в большом количестве переливание крови, определенные специфические препараты, определение концентрации этих препаратов в крови — то есть еще одна лаборатория, уже не иммунологическая. Нужен центр трансфузиологии, который заготавливает и выдает для этого пациента кровь, плазму. Нужны специалисты по гемокоррекции, гемодиализу, оксигенации. Нужны водители, которые перевозят органы на специальных машинах; нужны санитарки, которые готовят операционные. Масса людей работает в системе — всё видят, всё знают и не будут молчать при нарушениях. Кустарно добиться этого где-то «в гаражах», арендовать помещение у ветеринаров — нам это настолько смешно слышать. Нам — врачам, которые, бывает, получают и неудовлетворительный результат, несмотря на слаженные усилия большого количества людей, в круглосуточном режиме выхаживающих каждого пациента. Поэтому у любого, кто хотя бы немного поработал в практической трансплантологии, сказки про черных трансплантологов вызывают печальную улыбку.
Как сообщалось ранее, заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о том, что в России процент побед над детскими онкогематологическими заболеваниями составляет 90%, поразила не только население, но и медицинское сообщество. Подробнее читайте: Эксперты Центра Алмазова: «Люди не готовы быть донорами костного мозга – это проблема».